Воздух был невероятно горяч. Казалось, от прогрызенной песком земли исходил едва заметный пар, рябистой дымкой поднимаясь в небо. За небольшим двух этажным зданием щербатыми зубами выступал индустриальный город. Высокие дома и острые шпили, курсирующие между подпирающими небо зданиями аэромобили, которые даже с такого расстояния можно было заприметить, как проворные точки, подобные мухам; вышки, вырабатывающие энергию для Купола – все это на фоне кислотно-коричневого неба, загрязненного вековым разгульным образом жизни детей обглоданной земли, выглядело страшными зубами мрачного будущего, готового проглотить своих нерадивых гостей, навсегда оставив неблагодарных в забытье.
Маленький, корчиневатый двух этажный дом, такой же, как и сотни его собратьев на других улицах, был плотно окружен кольцом высокий зданий из крошащегося бетона и потрескавшегося стекла. В воздухе остро ощущался запах немытого малочисленного скота, бегавшего прямо в маленьком круглом дворике перед домом, и запах нечистот, основной склад которых расположился по правую руку от меня. Само здание, изъеденное ржавчиной и грязью, имело тусклый бежеватый цвет, с коричневыми разводами и потрескавшейся у основания краской, сквозь ошметки которой можно было разглядеть истинную окраску дома – когда-то белоснежную, а ныне грязно серую с прогнившими досками. Повсюду были натянуты силиконовые бельевые веревки, с развешанным на них тряпьем, бесконечно застиранным, с многочисленными заплатками и все такого же грязно-желтого оттенка, как и все вокруг. Ржавыми иглами над землей выступали проржавевшие столбы качелей с оторванной сидушкой, монотонно раскачивающиеся из стороны в сторону с душераздирающим скрипом.
Я, наверное, вписывалась во все это просто идеально. Худая и высокая, с тонкими конечностями и едва ли не выступающими костями, я была похожа на один из тех столбов, по которому проходил тонкий электрический провод – способ передачи электричества, от которого отказалось все современное общество. Тонкая майка-борцовка, с широкими поперечными коричневыми полосками, шорты, рваные на штанинах – грязные и затертые, но такие любимые и родные. На ногах армейские ботинки такого же коричневого оттенка, как и все вокруг – не помню, выменяла на тикеты, стащила у одного из заключенных или один из охраны отдал… за личные заслуги. Распущенные волосы когда-то были цвета блестящей на солнце меди – сейчас же больше напоминали закатное небо, загрязненное нечистотами, то самое, которое я видела каждый вечер из окна своей камеры. Отросшей челке падать на глаза не давали надвинутые на лоб очки-гогглы*, на тугом замшевом ремне с выпуклыми стеклами. Глаза, имевшие темный синий оттенок, сейчас напоминали грязное оконное стекло – такие же бледные и водянистые. Кожа, которая раньше была благородного фарфорового оттенка, сейчас выглядела истощенной и болезненно-бледной. А россыпь ярко-рыжих веснушек уже давно выцвела и смотрелась коричневыми пятнами грязи на вздернутом носу. И кожаная перчатка без пальцев, обтягивающая левую руку. Одним словом, я прекрасно вписывалась и сливалась с этим тусклым, в грязно-коричневых оттенках, местом.
Двор был пуст. Лишь изредка пробегал петух или гусь, с оглушительным гоготом, вздымая после себя перья. Ставни двухэтажного домика были плотно закрыты, не смотря на пятидесятиградусную жару – совершенно выносимая температура для современного мира, хоть все еще и жаркая. Такая мертвая тишина, видимо, приходит вместе с прибытием конвойных. Два высоких амбала, с угрожающе блестящим оружием внушительного вида. Лица у них были поразительно схожими – резкие черты лица, не выражающие никаких эмоций, будто натянутые на череп, смуглая кожа со светлыми лучиками в уголках глаз – они не старые, просто изможденные. Наверняка разлукой с семьей, тяжелой работой, угнетающей должностью, постоянными видениями страданий в большинстве своем невиновных заключенных. Я инстинктивно дотронулась до шеи, но вскоре поспешно отдернула руку, почувствовав тупую боль. Несколькими минутами ранее под кожу мне ввели маячок – миниатюрное следящее устройство, не больше рисового зернышка, контролирующее каждый мой шаг. Одно неверное движение или действие – и меня можно устранить одним нажатием. Страшно? Ничуть. Может быть, я просто привыкла, привыкла к страху, привыкла на столько, что уже ни чувствую его, воспринимая как должное. Может быть, после всего, что я перенесла и увидела , это мое самое заветное подсознательное желание – умереть. Может быть потому, что это единственный добрый жест от Единства – позволить человеку умереть без мучений.
Я покорно стояла, пока меня обыскивали особым генератором – на наличие оружия, которое и так было в открытом доступе, запрещенных препаратов, плазмидов. Когда процедура была окончена, я сделала один неловкий шаг, боясь упасть. Все время проверки я была обездвижена током, чтобы в случае чего я не смогла оказать сопротивления.
Рюкзак, наполненный малочисленным хламом, называющийся моим имуществом, бил меня по спине, издавая гремящие звуки от постоянного столкновения железной арматуры. Металлолом был моей единственной поблажкой, ведь все, имеющие какие-либо особенности с или без хирургического вмешательства подвергались либо полной изоляции от предметов, способных послужить катализатором к активной деятельности, либо частичное изменение цепочки ДНК, способное устранить некоторые особенности, приобретенные с помощью плазмидов. Я ежеминутно закрывала глаза от летевших на ресницы песчинок, тайком вытирала вспотевшие ладони о грязные шорты и старалась следить за колыханием развязавшегося шнурка, подстраиваясь под ритм гремящего железа в рюкзаке.
Они следовали за мной до самой двери в мой новый дом. Когда вход в мою обитель со скрипом отворился, я, наконец, осталась одна. Их тяжелые шаги еще долго отдавались в моем воспаленном мозгу до тех пор, пока служебная машина не укатила обратно к тюрьме, возвестив о своем уходе шуршанием шин по малоплодородной земле.
Комната была такой же, как и сам дом. Старой, изношенной и пострадавшей – от времени и пережитых мгновений. Я наверняка не первая здесь. В небольшом помещении нет ничего, кроме кровати на железном каркасе, тумбы и шкафа. Одинокая дверь с трухлявой веревкой вместо ручки одиноко взирала на обстановку своим единственным подбитым глазом – небольшим матовым стеклом с паутиной-трещенкой в центре. Пол, деревянный, и местами потемневший, скрипел при каждом движении, а желтые стены с темными полосами производили угнетающее впечатление. Мебель была настоящей, из дерева, а не из синтетики, от которой я чихаю и вся чешусь. На кровати был только матрас, застиранный, но не грязный. Потребности в постельное белье не было никакой – еще пара градусов уж могут превратить тебя в кусок отварного мяса. Окно – маленький квадратик, занавешенный грязными желтыми занавесками, - располагалось где-то у изголовья кровати, пропуская в комнату тусклые солнечные лучи.
Забравшись с ногами на матрас, я раздвинула шторки с оборванным кружевом и подняла оконную створку. Вид из моего окна открывался, отнюдь, не на двор. Достаточно было лишь протянуть руку, и можно было дотронуться до большого старого дуба, державшегося молодцом. Зеленая крона, хоть и допускала золотистые листочки, пожелтевшие от нехватки хлорофилла, выглядела если не свежей, то «растительной» - большая редкость в пределах Ньюпорта. Сейчас везде растут деревья из органического пластика, вырабатывающие кислород, как живые. Большой раскидистый дуб казался чудом среди пустынных равнин города. В провинциальных городах почти не осталось зелени – лишь маленькие зеленые островки и парки органического пластика. Чуть правее протекала река. Воду из каналов Ньюпорта пить нельзя. Зато ее можно резать на кусочки и жевать, если не боишься. Чистой воды в натуральных водоемах Ньюпорта уже давно не осталось. Еще до того, как прекратилось финансирование. Сейчас воду получают из труб, проведенных от Центра к Ньюпорту. Жидкость имеет чуть желтоватый цвет, но прежде, чем попасть в бутылки, проходит дезинфекцию, и микробов в ней становится на пару сотен меньше, хоть цвет и не меняется. Изредка некоторым рабочим на рудниках удается обнаружить источники не самой чистой, но воды. За бутылку такой жидкости можно выручить баксов двести.
С громким хлопком створка опустилась на место. Воздух с моей стороны чище, но не на много, и вскоре комната наполнилась отвратительным запахом. Рюкзак приземлился на дощатый пол, издав железный стон многочисленных железных обломков. Я стянула с себя борцовку, обнажая ряд цифр, выбитых чуть ниже ребер. От них исходил легкий зеленоватый флюорисцентный свет, освещая небольшой участок застиранного матраса. Я свернулась калачиком, сбросив ботинки и очки на пол. Я видела свое бледное отражение в зеркале, подернутое по краям ржавыми разводами и в не менее ржавой раме.
Бастилия сильно изменила меня, не только в физическом плане. Да, у меня на спине красовались длинные красные полосы, от заживающих царапин, несколько шрамов рассекало левую щеку, а на лопатке красовался подживающий рубец. Я не видела всех шрамов, но чувствовала их каждой клеткой, даже если они больше не отзывались болью где-то в затылке. Я уже была не я. Лишь оболочка, испещренная многочисленными шрамами и рубцами. То, что было внутри, теплилось где-то далеко, в кончиках пальцев и тихо взывало к свободе. К свободе, которую могло обрести лишь гибелью.








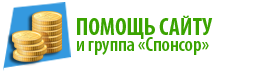
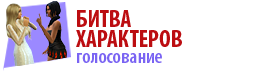






 И за комментарий, кстати, тоже))
И за комментарий, кстати, тоже)) 



































